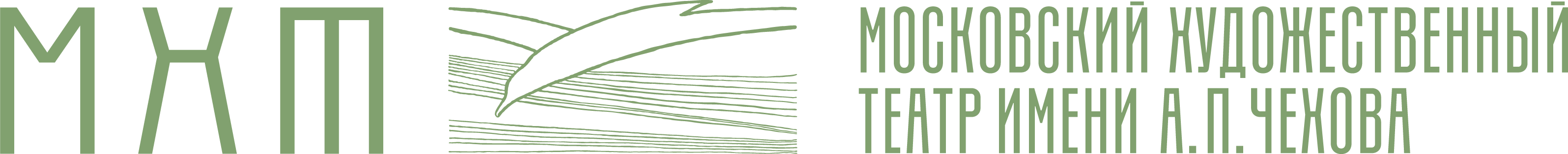Имена | Человек на букву «К». Виктор Гвоздицкий о Николае Шейко, 24.05.2015 Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих,в буераки, к чужим атаманам! Геометрию их, Венецию их назовут шутовством и обманом. В. В. Набоков Первые дни в первом моем театре… Лето. Август. Начало театрального сезона. Русская труппа, как разворошенный муравейник: артисты, занятые в «Зеленой птичке», — костюмы comedia dell’arte, карнавальные маски, отголоски распевок — в пустом зрительном зале, в проходной у телефона и даже в общежитии на пятом этаже. Тут же артисты, которым не повезло, — у расписания, в бухгалтерии или просто в неубранном фойе. Я не репетировал ничего — дни мелькали или тянулись в зависимости от настроения, обстоятельств, впечатлений и погоды. Параллельно с премьерой «Птички» вспоминали старые спектакли; какие-то незначительные вводы, световые, прогоны. Обо мне как будто и забыли вовсе… Но вот в расписании появились дополнительные назначения на роли, и я впервые увидел свою фамилию: 1. Назначить на роль Суфлера в спектакле «Зеленая птичка» (режиссер Н. М. Шейко) артиста В. В. Гвоздицкого. 2. «Город на заре» (режиссер А. Я. Шапиро) — вызываются Г. И. Мацулевич, В. В. Гвоздицкий, А. С. Зубарев, Ю. Н. Сафронов. В тот же день я получил две странички. На первой — три реплики Тартальи — их должен будет вовремя подсказать мой Суфлер. В «Городе на заре» после слов «Коля, миленький, неужели лето кончается?» мне полагалось сказать: «Всему приходит конец». Так пришло начало. В «Зеленую птичку» я вошел уже после нашумевшей премьеры. В конце предыдущего сезона она прошла без меня. Мне не повезло — я только слышал обрывки рассказов о чьих-то волнениях, успехе, очередях за билетами. Суфлер и есть суфлер — тихонько люк приоткрыл, палочку подставил, чтобы осталась щель, в фонарике зажег свечу, дождался момента, подсказал, как требовалось, — невпопад, чуть было не сорвав монолог заикающемуся Тарталье, и ползком под сценой на сцене, чтобы никому не помешать и ничего не задеть, исчез. Не помню сейчас репетиций с режиссером, казалось, все это объяснили мне перед спектаклем артисты. Я понял главное — никому не помешать. После спектакля Николай Михайлович Шейко поздравил меня и сказал: «Ничего, ничего, не расстраивайтесь. Порепетируем еще, поговорим потом». Потом не поговорили — от спектакля к спектаклю я и старался никому не помешать, иногда что-нибудь с грохотом опрокидывая, отползая «незаметно». Вторая встреча с этим режиссером случилась на «Молодости театра» А. Гладкова. Роль неожиданно оказалась большая — стремительная, остро написанная. Такие роли называют «пулевыми». Отползать незаметно было уже никак невозможно, это могло оказаться «смертельным». Но и на этот раз Николай Михайлович после репетиции, почти извиняясь, говорил, что, конечно, конечно, мы еще порепетируем. Время есть. «И что же мне с Вами делать — просто не знаю». Снова и снова репетиции заканчивались для меня этим самым: «Что же мне с Вами делать?!» Так я и репетировал, больше созерцая и, как оказалось, постигая уроки на долгие годы. Перед каждой репетицией мы получали по отдельному листку, на котором знаменитым почерком Николая Шейко, обязательно чернилами, и, кажется, коричневыми, были выписаны замечания каждому актеру. Наверное, поэтому долгих бесед и высаживаний в зал, когда селезенка артиста настороженно поджидает неаккуратного слова, а подсознание выхватывает — «опять не то», «опять не так», «опять хуже других», — такого я не помню. Листочки были разного цвета, не из канцелярского магазина, а как будто бы из старинной лавки начала века, почти пергамент, почти папирус. Пожелания артистам были окружены эскортом NB, sic!, только нам понятными аббревиатурами, один или два раза обведенными в кружок. Вспоминаю забавную аббревиатуру Р. В. К. , что означало «руки в карманах». «Р. В. К. — это не только плохое воспитание, это незнание артистом, что делать с руками, чем их занять, чем жить на сцене». Руки, спрятанные в карманах, на худой случай «занятые» сигаретой, для меня и сейчас признак актерской приблизительности и несвободы. …В одном театре умещалось два: театр Шапиро и театр Шейко. Март Китаев каким-то своим «абсолютным слухом» мог наполнить итальянские законы старинного театра, которыми Шейко открывал не только фьябы Гоцци, но и пьесу Гладкова, похождения Карлсона, спектакли по русской классике. Вампиловский «Старший сын» у Шейко и Китаева становился фантасмагорией, где поднималась в воздух мебель с сидящими на ней героями, гуляли среди персонажей траурные маски, напоминающие итальянский карнавал, а в финале все участники играли на кларнетах. Театр Шапиро у Китаева был исполнен драматизмом узнавания, вибрацией социальной ноты, подробным и вместе с тем поэтичным отражением жизни. Воздух репетиций. Сценический традиционализм, вымыслы и артефакты, образцовые театральные эпохи, шутки, свойственные и приличные театру, дают жизнь новым формам и новому сценическому языку. Все это может быть не менее важно, чем событийный и действенный анализ, малый или большой круг внимания. Во всяком случае в эмоциональной актерской памяти остается на жизнь. …Фигура Вахтангова, вокруг которой разворачивалась пьеса Александра Гладкова, была соткана, создана на репетициях Шейко из театральных реалий и легенд начала века. Не было главных ролей, казалось, что все мы вместе, и письмо Гладкова (в ролевой тетради нахожу переписанный тогда отрывок) мы слушали почти как студисты Второй, или Третьей, или артисты русской труппы рижского ТЮЗа: «…Надо убаюкать зрителя простым и натуральным, чтобы затем разбудить его отдыхающее воображение неожиданной искрой искусства». Мне трудно сформулировать теперь, о чем был этот спектакль. Этого не нужно делать, не нужно пытаться стиснуть до краткого определения живую эманацию, возникающую на сцене. Каждая репетиция ритуальна сама по себе, а каждый спектакль вбирает в себя все, что вокруг нас в это мгновение. Мгновение, когда я попал в этот театр, было живым и гибким. Многие из участников еще помнили мороку строительства своего театра, неповторимость своего первого спектакля, вкус своей первой победы. Они пришли в этот театр вместе, и их первые движения были общими. Размышления режиссера о верности делу и высокому театру были понятны многим, а для новичков не превращались в живые проповеди — эти репетиции оставляли отметины. Калейдоскоп судеб другой театральной жизни был разлит в пьесе Гладкова. За вымышленными именами и фамилиями персонажей вставали подлинные участники начала Третьей студии МХАТа, будущего театра им. Евг.Вахтангова. Даже роли, состоящие из двух-трех реплик, заполнялись чьими-то далекими и реальными голосами. А режиссер знал досконально, кем была Аля-маленькая, как сложилась судьба Соболевского и кто теперь еще в театре Вахтангова может вспомнить реального Григория Миркина. Наше отношение к маленьким ролям, каботинаж и актерские шутки по поводу, а чаще без, наши незнания режиссер воспринимал очень лично: вдруг наступившую тишину, возникшую однажды, когда он молча оставил репетицию, я помню хорошо. Едва ли я могу назвать режиссера, кому так дорог ушедший театр начала века, а в каждом спектакле неотступно возникает тема высокой театральной культуры, призвание людей театра, власти традиций, канона и прочей «дребедени», если смотреть из нашего прекрасного далека… Так строилась атмосфера спектакля, затягивая, погружая в загадки былых театральных страстей, соединяясь с жизнью нашего маленького ТЮЗа… Премьера шекспировской «Бури» в исполнении студийцев экстраполировалась на премьеру «Молодости театра»: администратор Гриша Миркин, забытый, сидел в углу — спектакль начался, исполнители на сцене, зрительный зал полон. «Станиславский на извозчике приехал!..» — повторял я шепотом Элле Шалопенок, игравшей помощника режиссера Наташу Шведову. И мы почти верили, что это к нам, в наш ТЮЗ… …Есть человек на букву К. И я в него влюблен слегка. И если б он не прилетал Тогда бы мир скучнее стал. Он знает тысячи стихов. Он знает дверцу в царство снов. Он к нам летит издалека, Смешной чудак, чудак смешной, Чудак на букву К. И эта буква нам нужна, И эта буква так важна, Что прочая вся азбука Мне не заменит никогда ту букву К! Я почти уверен, что эти куплеты Малыша Рома Тименчик написал о Николае Михайловиче или для Николая Михайловича. Разговоры этих двух авгуров были витиеваты и неясны нашему брату артисту. Мы пережидали, делая вид, что и мы посвящены в секреты Серебряного века, эзотеризм или парафразы шарад ОБЭРИУ, спрятанных в куплетах ничего не подозревающих об этом Малыша, Карлсона, домоправительницы Бок из незатейливой сказки шведской писательницы Астрид Линдгрен. Неясным было и мое назначение на роль толстого существа с пропеллером на спине. Я честно подтягивал свой довольно длинный нос, затем гримеры приклеивали солидный кусок гуммоза. Толщинки были отдельны от артиста, и последний напоминал не забавного человечка, легко «устраивающего кавардак», а артиста Милляра в сказочном киносюжете Александра Роу — подтянутый нос отклеивался в первой же сцене и повисал перезревшей сливой у подбородка, пропеллер глох, кусок зефира, заменявший сочный персик, застревал в горле и не давал возможности ни говорить, ни петь, ни дышать. Карлсон хрипел, потел, плевался и нехорошо наскакивал на Малыша. Дети пугались очень. Довольны были только Шейко и Тименчик. Казалось, им по вкусу и нездоровое возбуждение детей, и оторопь педагогического актива, и недовольство артистом художественного руководителя. Похоже, что надо мной был произведен какой-то недобрый опыт этими двумя адептами метаморфоз, и я участвовал в причудливых кошмарах «Школы клоунов» Хармса. Вскоре «Чудак на букву К» улетел из нашего театра, чтобы через много лет снова появиться в моей жизни, напомнить о молодости театра с неутраченными иллюзиями, первой ролью и первыми уроками. Без него в театре было пусто, и другая песенка Малыша из того же спектакля, постфактум, могла быть адресована ему: А вот теперь хочу спросить про то я — Как может загрустить окно простое? Подоконник тосковать, фрамуга терпеливо ждать И слезы проливать — стекло простое? У окна я вроде часового. Разве он забыл, что дал мне слово? Неужели может быть, чтоб он мог меня забыть?! Как бы я хотел его увидеть снова. Как-то складывала жизнь, что наш Рижский театр стал разъезжаться, расползаться — меняться. В Александринку уехал Китаев, перестал ставить новые спектакли Шейко — его пригласили возглавить белорусский ТЮЗ. Еще долго приезжал, и только казалось, что все по-прежнему — репетиции вводов, прежняя заинтересованность, листочки с замечаниями. Но без него тускнела «Зеленая птичка» — мы играли ее уже только утром, и без режиссера затихал карнавал. Выходы дзанни, еще недавно бывшие украшением представления, превращались в служебные связки. Пролог и argomento все чаще артисты между собой называли «начало», а бесконечные сверкающие капризы поклонов — plausum date — «конец спектакля». Шутки, свойственные и приличные театру, приедались, «Молодость театра» с репертуара сняли: для утренников этот спектакль не был достаточно детским, а вечером игрались другие названия… Спектакли умирали. Когда в 1973 году в Ригу на Фестиваль театров Прибалтики и Белоруссии из Минска привезли «С любимыми не расставайтесь», Шейко в театре был уже гостем, таким же, как Володин и все белорусские артисты. Мы смотрели спектакль наших гостей ревниво, пристрастно, понимая, что теперь уже не мы получаем пергаменты с замечаниями и что репетиции с развешенными на стенах класса, как пособие в школе, гравюрами Калло не для нас… …И «Зеленая птичка», и «С любимыми не расставайтесь» не затерялись среди давних театральных преданий. Спустя годы, о «Любимых» вспоминали Ефремов и Смелянский, Арбузов и Зорин. Вспоминал, и поразительно вспоминал, Александр Моисеевич Володин: «Я не встречал в своей жизни людей так беззаветно, счастливо любящих театр, как Николай Шейко. А ведь трудно сохранить такую трепетную любовь, когда сцены театров померкли. Помню давний спектакль Коли Шейко по пьесе „С любимыми не расставайтесь“ в минском ТЮЗе. Сценография была проста и символична: зеркальное отражение входа в зрительный зал, зрители в четырех белых стенах с замкнутыми дверями. В финале это окажется общей палатой сумасшедшего дома. Вдоль замкнутых дверей бредут люди в больничных халатах — действующие лица бракоразводных процессов и участники веселых игр, которыми перемежались разводы. Тут и золотоволосая красивая коммунисточка — судья с портфельчиком, тут и веселый затейник, который, правда, живет на валидоле… Однако спектакль этот был весь с игрою, с мейерхольдовской резкостью и в то же время изяществом. Начальство вопрошало: „Что же вы хотите этим сказать? Что вся Россия разводится, а потом сходит с ума?!“ Коля Шейко попросил меня не уезжать из Минска: „У нас начальство — люди деревенские. При госте из Ленинграда запрещать не будут. А потом обойдется“. И обошлось…» Спектакль Шейко звучал как трагическая и нежная мелодия, посвященная самым обычным людям, заключенным в собственную жизнь, как в тюрьму или психиатрическую больницу. Такие, знакомые нам всем люди, населявшие володинскую пьесу, были сыграны с абсолютной правдой постижения. Я видел такое только в лучших фильмах итальянского неореализма. Законченные совершенные актерские портреты, все — от угловатого слепого баяниста до трагического буффона — смешного нелепого безумного Массовика-затейника в исполнении большого артиста Виктора Лебедева. «Я сумую па табе, Миця!» — сказанное Катей — Полосиной осталось в моей памяти навсегда. Казалось, это был уже не человеческий голос и не голос вообще, а стон, исходящий из самых глубин души и на этом неслыханном языке души, языке, который никто никогда не слышал: «Я сумую па табе, Миця!» Казалось, русское: «Я скучаю по тебе, Митя!» — не может никогда звучать так долго, так безнадежно и так бесконечно… «Зеленая птичка» упорхнула в Минск, а оттуда в «Императорскую» Александринку. Каждое утро по дороге в Театр комедии я мог видеть у «Театра напротив», как называли у нас Ленинградский Академический театр Драмы им. А. С. Пушкина, знакомые фамилии в анонсах «Готовится к постановке». Сперва «Похождения Чичикова, или Мертвые души» — постановка Николая Шейко, авторы инсценировки А. Володин, Р. Тименчик, Н. Шейко, сценография М. Китаева, музыка Р. Гринблата… Сразу вслед — философическая фьяба Карло Гоцци «Зеленая птичка». Снова знакомые имена — Шейко, Гринблат, Райт-Ковалева… Театр разделял только Невский, но войдя в один из лучших театральных залов мира, где в «Чичикове» одновременно выходили на бывшую императорскую сцену Меркурьев и Толубеев, Адашевский и Соколов, Борисов и Дмитриев, Лебзак и Карякина, Штыкан и Мамаева, Эренберг, Екатерининский, Инютина, Алешина, Вальяно, Свирин, Мартон, казалось, что этот «нездешний вечер» может исчезнуть, как мираж. В большой балльной мазурке при поднятии занавеса пролетала вся александринская труппа. С колосников знаменитой сцены спускалась бричка с Чичиковым — Горбачевым: «…Павел Иванович! Ах, Павел Иванович!» — звенящее со всех сторон из уст чиновников, занавеса пролетала вся александринская труппа. С колосников знаменитой сцены спускалась бричка с Чичиковым — Горбачевым: «…Павел Иванович! Ах, Павел Иванович!» — звенящее со всех сторон из уст чиновников, дам просто приятных и дам приятных во всех отношениях продолжалось узорным многоголосьем стретт, летали голуби, звучал большой настоящий оркестр, александринские красавицы-премьерши сладострастно впрягались в бричку Чичикова, мертвые души шли и шли крестным ходом под настоящий перезвон колоколов, в конце концов все застывало в немой сцене, и голос Олега Ефремова от Автора заполнял старинный театр: «Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это нам всем темно представляется, и мы едва…» Я не узнал нашу «Зеленую птичку», сделанную из холщовых лоскутов, лепестков ландышей и одетую в запыленные пастельного тона бархатные камзолы. На сцене сверкало золото, бирюза и стразы. Вместо свойского обращения Пролога — Тартальи: Друзья, поручен мне пролог. Давно актеры сбились с ног От репетиций, от волненья, Пора начать нам представленье — появлялся Неизвестный из мейерхольдовского «Маскарада» (точная копия костюма Головина — лиловое, черное, мертвенно кружевная баутта). Пролог — Неизвестный предварял спектакль стихами Михаила Кузмина: В ком жив полет влюбленный, Крылато сердце бьется, Тех птичкою зеленой Колдует Карло Гоцци. В поверхности зеркальной Пропал луны топаз, И веется рассказ Завесой театральной. Слова и звуки растягивались или пружинились, соответствуя петербургской орфоэпии, учитывая акустические законы старинного многоярусного театра: В къом жив пъолет влюблионной, Крылъато съердцЭ биОЦЦа, Тех птичкАю зъеленНой Къолдует кАрло гОЦЦы. И весь спектакль будто вбирал в себя богатство кузминских строф: Синьоры, Синьорины, Места скорей займите! Волшебные картины Внимательно смотрите! Высокие примеры И флейт воздушный звук Перенесут вас вдруг В страну чудесной веры… Зрелище переливалось длиннонотами, каскадами кунштюков и бесконечными антрактами, комплиментами слуг просцениума. За розовым плюмажем Рассыпалась ракета. Без масок мы покажем Актера и поэта, И вскроем осторожно Мечтаний механизм, Сиявший романтизм Зажечь опять возможно. Развевающиеся льняные кринолины сменили тяжелые ткани и шляпы с украшениями из фруктов и птиц, а с порталов за всем происходящим наблюдали портреты графа Карло Гоцци и Доктора Дапертутто. Где статуи смеются Средь королей бубновых, Подкидыши найдутся Для приключений новых… При шелковом шипеньи Танцующей воды Певучие плоды Приводят в удивленье. Из Золушки и капризницы Барбарина — Ислентьева на глазах превращалась в холодное, прекрасное, изнеженное существо, влюбленное в канон, стиль, забытую отдельность редкого голоса и шлифованного жеста. Статуя Кальмона в исполнении Адашевского напоминала былые времена александринских корифеев. Все ленинградские артисты Константина Игнатьевича называли дядя Костя. Дядю Костю можно было встретить на представлении в цирке, на концерте Мравинского или на премьере Камы Гинкаса, где-нибудь в маленькой гостиной ВТО. Он почти не играл первых ролей. Когда случайно кинематограф выхватывал у театра его поразительную индивидуальность и сочность забытого искусства «интонировать», казалось, что на экране хроникальные кадры девятнадцатого столетия. Дядя Костя Варламов. Дядя Костя Адашевский. Так могут называть артистов в театре, где, прощаясь, целуют подмостки и отламывают от них щепку — на счастье. Старый артист начинал роль Кальмона с абсолютной неподвижности. Довольно длинную сцену Адашевский — Кальмон стоял не шелохнувшись — белый мрамор изваяния, нетронутые движением складки костюма и добросовестно забеленные гримом руки, лицо, ресницы — полное ощущение скульптуры, сделанной со знаменитого артиста. Когда же сопровождаемые грохотом, светопреставлением и катаклизмами все (персонажи и зрители) — переносились в «страну чудесной веры», Кальмон оживал и зрительный зал взрывался аплодисментами узнавания: «Адашевский! Адашевский! …шевский…дядя Костя…» «Я счастлива, что встретилась с замечательным режиссером Николаем Шейко. В спектакле „Зеленая птичка“ К. Гоцци совсем неожиданно получила роль Тартальоны, престарелой королевы. Для меня это был первый опыт острохарактерной работы, который помог открыть новые качества, возможности. Помогает и сейчас. Он нас всех увлек комедией дель арте, побуждая к озорству, импровизации. Одну сцену с сыном Тартальей мы играли на итальянском языке. Как-то на спектакле были итальянские гости, которые не могли поверить, что мы не знаем итальянского. Репетировали и играли с большим наслаждением, темпераментно, чувствуя заданную режиссером форму. Мне кажется, что про Николая Шейко можно сказать словами Гоцци. Он верит в то „Какую силу над душою имеют/Простые чувства, нежность выражений!“ В этом спектакле причудливо смешались озорство, грусть и серьезные драматические коллизии. В нем сочетались философичность, яркая театральность, ирония и высокая поэзия. Николай Шейко каждого автора ставит по-разному. Не только в стилистике спектакля, но и по репетиционному методу. Совсем иначе работали над спектаклем „Похождения Чичикова, или Мертвые души“ Н. В. Гоголя. Моим партнером в роли Маниловой был прекрасный артист Василий Меркурьев. Он был изящный, легкий. Вспоминаю танец, который нам ставила знаменитая балерина Мариинского театра Татьяна Вечеслова, где Меркурьев в одном из грациозных па жеманно произносил: „Душенька, открой ротик!“ Эта сцена всегда проходила под аплодисменты. Мне грустно, что Николай Михайлович должен был уйти из театра. Мы его называли „Архивариус“. Он мог ответить на все вопросы, которые возникали по ходу репетиций. Его индивидуальность, общечеловеческая культура обогатили театр, не нарушая принятых и признанных канонов. У него есть вера в актера и любовь к нему. Что может быть больше! Рада, что на земле живет Н. М. Шейко, веселый, доброжелательный, незамутненный человек, который умеет радоваться и радовать. С ним связано самое хорошее в моей жизни. Вспоминая, всегда улыбаюсь. Он — человек с отметинкой, а потому обязательно оставит свой след в искусстве». Народная артистка СССР Нина Васильевна Мамаева. Маленькая изящно-змеевидная головка, как бусина, скрывалась под по-тышлеровски великолепным головным убором, собранным из цветов, виноградных гроздей и непременных трех апельсинов. Какая-то особенная грация, манкость коварства и шарма, каприз, цепкие движения пальцев с зелеными ноготками — Тартальона Мамаевой — сбереженная память о всех премьершах, начиная с Марии Гавриловны Савиной. В коловращении спектакля мелькали: гуттаперчевый Труффальдино — Паршин, алебастровая Помпея — Панина и десятки лицедеев, будто воскресших из самой comedia dell’arte. Временами казалось, что Александринка доверилась Шейко и он нашел свой театр. Для Николая Михайловича опыт сцены, выстроенной Карлом Росси, был одним из составляющих его театральной формулы, где Петербург Серебряного века вбирал в себя не только искания Доктора Дапертутто с его студиями, журналом «Любовь к трем апельсинам», культом Гоцци, но и программные спектакли Мастера. И прежде всего Александринский «Маскарад», о котором — позже: Это, конечно, был мираж. В семидесятые годы Шейко работал не в Александринском, а в Ленинградском орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени Академическом театре Драмы им. А. С. Пушкина, чуждом режиссеру, странствующему в обратном направлении. Главная встреча Николая Шейко с этим театром состоялась в дни, когда отмечалось 225-летие учрежденного императрицей Елизаветой Петровной «Русского для представления трагедий и комедий театра». Юбилейный спектакль «Театральный разъезд» стал прощанием с театром ушедшего времени, эпохами александринской сцены, забытым величием актерского ремесла, пророческими спектаклями Мейерхольда и романтическими прозрениями театра высокого стиля. С театром прощался голос Ахматовой, уже из небытия обращаясь к затихшему залу, портретам великих, которые опускались, опускались к сидящим на сцене артистам: Все равно подходит расплата — Видишь там, за вьюгой крупчатой, Мейерхольдовы арапчата Затевают опять возню? Словно в зеркале страшной ночи И беснуется и не хочет Узнавать себя человек, А по набережной легендарной Приближался не календарный Настоящий Двадцатый Век. Прощались с театром оставшиеся в живых матросы из «Оптимистической». Ольга Лебзак, красивая молодая и прежняя, вызывала на сцену участников спектакля, и время отступало: контуры, дыхание театрального чуда возникали перед нами. Последним выходил Александр Васильевич Соколов. Его актерский шедевр в «Оптимистической трагедии» — Сиплого зал помнил и встречал стоя. Артисты, равные Соколову, рождаются раз в 225 лет — особенно отчетливо понимают это люди театра. Я только один раз встретился с Соколовым в каком-то громоздком радиоспектакле: у микрофона стоял человек с неактерской внешностью, небрежно одетый, ворчал, сопел, сердился и обижался. Результат обезоруживал и восхищал всех, и было неясно, из чего состоит его мастерство, или мастерство как мера не существует? Остается только движение души. Эпохи сменяли одна другую, новые и новые лица на портретах, опускаясь, заполняли сцену, прощались… …Пустая сцена Александринки прощалась с остатками «Маскарада» Лермонтова — Мейерхольда — Головина — Глазунова — Юрьева — Рощиной — Инсаровой… Луч света высвечивал геометрию путей Арбенина. Уцелевший чудом, в архивах радио, голос Юрьева оживал в одиноком луче и послушно следовал мейерхольдовской мизансцене. Строго одетые молодые актеры, артисты театра им. А. С. Пушкина медленно выносили остатки небывалых декораций и мебели, в последний раз прикасавшихся к своим прежним местам. И вдруг из распахнутых задних дверей на сцену врывался зимний воздух улицы Росси. Зрительный зал заполнялся холодным ветром другого, чужого времени, дыханием иного театра, облюбовавшего для себя творение зодчего Росси. …С театром Александринским прощался режиссер Шейко. Новая театральная Москва, столица высокой моды и бесконечных театральных фестивалей, похожих на спортивные игры, причудливо отражающаяся в кривом зеркале ТВ, приводит в изумление и замешательство. С каждым новым сезоном театральная столица набирает коммерческие обороты, торгует, закрывая театральные журналы, заключая сделки с ресторанами и банками, совершенствует труппы репертуарных театров гибкой системой договоров и гонораров. Перерожденный сегодняшний театр, без оглядки отдавший свое прошлое, стремительно обретает уверенность. Смешно и нелепо выглядит желание инсценировать автора, репетировать спектакль долго, изучать законы стиха, произносить гоголевский текст без отсебятин, проживать чеховское пространство между словами. «И надежд в связи с этим остается все меньше и меньше», и в результате — так немного того, что помогает держаться за соломинку профессии и театральной веры: пустая сцена (вещь в себе) — подлинный театр; достоинство еще оставшихся старых артистов, первые уроки сцены, живущие в подсознании. Научить театру может только театр, если судьба подарила настоящие встречи с партнерами, авторами и режиссерами-учителями. Фоменко учит бесстрашию в рисунке, гибкости в жестком, начиненном графикой движения роли, нежности к «театру интонаций» и прелести прихотливой актерской жизни, соединенной с жизнью музыки. Из зданий — больших, маленьких, едва заметных глазу, внутренних конструкций Гинкаса возникает, неведомо для артиста, захватывающее существование обратного хода, смешное в трагическом; тишина, звучащая оркестром. Если бы не Левитин, то, может быть, я не сказал бы со сцены слова особенного театра Олеши, Бабеля, Введенского, Заболоцкого, Олейникова, Хармса, Цветаевой… В репетициях Ефремова я впервые понял, что такое покой и доверие на большой дистанции; как можно шаг за шагом пройти всю роль: в свободном парении, без малейшего насилия и принуждения, идя вслед за режиссером; как можно и должно поверять все в творчестве Пушкиным… Шейко научил меня самому трудному — азбуке профессии, театральной грамоте, смыслу вечного ученичества… Первые дни в моем новом театре… Осень. Сентябрь. Начало театрального сезона. Режиссер Шейко ставит во МХАТе «Маскарад». Я репетирую Неизвестного с улетевшим когда-то из Риги «человеком на букву К». Авторитет ведущих артистов, приглашенных на первые роли, исключает разноцветные пергаменты с кружками и стрелами, но в перерыве можно увидеть на режиссерском столике исчерченный экземпляр с пронумерованными репликами и какими-то пометками чернилами на полях. Стиль не менялся: имена и отчества, въедливый педантизм самых простых и самых трудных заданий первого плана, кажущаяся мягкость и обволакивающая атмосфера. Изнурительные остановки в самые неподходящие моменты, когда кажется, что «сдвинулось» и «пошло». — Вы не соблюдаете стих… О, это «не соблюдаете стих»! Кажется, никогда не выбраться из этих тисков размера, метра, цезур и постоянно меняющихся стоп… Забытое «не знаю, что с Вами делать» казалось пустяком по сравнению «Арбенин здесь, словно Цезарь перед Рубиконом, а у Вас гримаса, как будто проглотили горькую таблетку…!» (снова почти извиняясь говорил режиссер). И хотелось вернуть роль и больше не приходить на репетицию. — Вы не держите стих. Это не окончание строки… — Удобный момент настал! — распределять монолог так, чтобы темп произношения слов и темп движения совпадали. Рука с тростью протянута и совершенно неподвижна… Бесконечные остановки, прерванное дыхание, угасающая энергия. Приходилось учить не слова роли, а стихотворную кольчугу, и эти проклятые окончания строк, измеренные и пронумерованные режиссером, оказывались спасительными и расшифровывали драму, несущую в себе тайну движения пера двадцатидвухлетнего автора: будто некто водит не только Арбенина из игорного дома в маскарад, но сидит в каждой лермонтовской строчке — подталкивает, провоцирует и разбирает по действию, не делая никогда ошибок в этом траурном, сатанинском разборе судеб, в этом самом конце строки. — Ах, здравствуй, Нина… наконец! Арбенинское сильное «наконец» важнее, чем «ах», чем «здравствуй», чем «Нина». Или: Послушай, Нина… я РОЖДЕН С душой кипучею, как ЛАВА: Покуда не растопится, ТВЕРДА Она как камень… но плоха ЗАБАВА С ее потоком встретиться! ТОГДА… Выше, сильнее «ТОГДА» — только дыхание, а после какая угодно пауза, если сработано «по действию» лермонтовского разбора верно. И самое важное, что это дыхание Лермонтова — его звук, его ощущение бездны в момент, когда он сочинял, то есть проживал это. Безошибочно. Все эти смыслы и уроки определились и стали явными уже потом, когда спектакль пошел, когда китаевские занавесы окутали траурным крепом мхатовскую сцену, открыв ее, едва ли не впервые за столетнюю историю этого театра всю, — огромную, глубокую, помогающую стоять. И выстоять. Да, все это пришло уже потом. А тогда… Тогда я снова почувствовал, что я начинающий дебютант, сидящий за школьной партой, постигающий азы вечного театра, и был счастлив, потому что артист живет только движением театрального урока. Без масок мы покажем Актера и поэта И вскроем осторожно Мечтаний механизм, Сиявший романтизм Зажечь опять возможно. 1999 г. Публикация в «ПТЖ» Пресса Сюжеты из жизни Гвоздицкого, Валерий Семеновский, Театрология, 30.09.2021 Гвоздик, Витторио, Уксус и Ужас Васильевич, Валерий Семеновский, Знамя, 15.08.2021 Фильм-спектакль Михаила Козакова «Медная бабушка», Александра Машукова, Медиацентр МХТ, 6.06.2020 Видеозапись спектакля «Три сестры» Олега Ефремова (премьерный состав, 1997 год), из фондов Музея МХАТ, 23.05.2020 Телеверсия спектакля Олега Ефремова «Три сестры» и рассказ Галины Скоробогатовой о постановке, Культура.РФ, 2017 Видеозапись спектакля «Учитель словесности» (2003 г.), культура.рф, 21.10.2015 Пьеро и Арлекин, Вадим Гаевский, Экран и сцена, 13.10.2015 Человек на букву «К». Виктор Гвоздицкий о Николае Шейко, Петербургский театральный журнал, 24.05.2015 Его жизнь была полна отваги, Лев Додин, Виктор Гвоздицкий, Культура, 4.10.2007 Театр как его двойник, Марина Токарева, Московские новости, 25.05.2007 Ушли: Пушкин, Казанова, г-н Голядкин, Новая газета, 24.05.2007 Последнее слово, Елена Губайдуллина, Независимая газета, 23.05.2007 Памяти Виктора Гвоздицкого, Григорий Заславский, Независимая газета, 23.05.2007 Умер Виктор Гвоздицкий, Алена Солнцева, Время новостей, 22.05.2007 Артист-парадоксалист, Роман Должанский, Коммерсант, 22.05.2007 Играл как дышал, Ирина Корнеева, Российская газета, 22.05.2007 Умер Виктор Гвоздицкий, Марина Райкина, Московский комсомолец, 22.05.2007 Невосполнимый Парадоксалист, Глеб Ситковский, Газета, 22.05.2007 Умер Виктор Гвоздицкий, Вечерняя Москва, 20.05.2007 Есть несколько Любшиных, Виктор Гвоздицкий, из книги «Последние», 2007 Нам не страшен мелкий бес?, Ирина Алпатова, Планета Красота, 4.10.2003 Неча на зеркало плевать…, Елена Ямпольская, Русский курьер, 3.06.2003 Неподражаемо противный спектакль, Марина Шимадина, Коммерсантъ, 22.05.2003 Мелкий бес и его двойник, Елена Дьякова, Новая газета, 19.05.2003 Есть несколько Любшиных, Артур Соломонов, Газета, 7.04.2003 Пощечины достались зрителям, Марина Шимадина, Коммерсантъ, 5.11.2002 Настоящий Гвоздицкий, Григорий Заславский, Независимая газета, 5.11.2002 Тот и другие, Александр Соколянский, Время Новостей, 5.11.2002 Закрытый актер Виктор Гвоздицкий, Алена Карась, Ваш досуг, 22.10.2002 В театре надо быть смиренным…, Александр Строганов, Век, 18.10.2002 Эпизоды из жизни актера Гвоздицкого, Алла Михалёва, Литературная газета, 9.10.2002 Браво, Гвоздицкий, браво!, Екатерина Васильева, Газета, 30.09.2002 Виктор Гвоздицкий: Вот это я люблю…, Артур Соломонов, Газета, 30.09.2002 Виктор Гвоздицкий: Наша профессия эфемерна, Алексей Филиппов, Известия, 24.09.2002 Артист и его двойник, Ирина Алпатова, Культура, 19.09.2002 Затерянные в постмодерне, Мария Львова, Вечерний клуб, 8.05.2002 Интерактивные песни западных славян, Наталия Каминская, Культура, 25.04.2002 Выбирай или проиграешь, Елена Ямпольская, Новые известия, 23.04.2002 Мальчики направо, девочки налево, Алексей Филиппов, Известия, 23.04.2002 Виктор Гвоздицкий о Владимире Кашпуре, 26.10.2001 Погиб поэт, невольник чести, Валентина Львова, Комсомольская правда, 3.10.2001 Не наше все, Алена Карась, Независимая газета, 19.10.1999 «Три сестры» Олега Ефремова, Анатолий Смелянский, энциклопедическое издание «Московский Художественный театр. 100 лет», 26.10.1998 Если бы жить…, Вера Максимова, Независимая газета, 11.03.1997 Три ли сестры, Людмила Петрушевская, Коммерсантъ, 25.02.1997 Виктор Гвоздицкий: «Пожалуйста, поднимайте ресницы, когда я опущу», Виктор Гвоздицкий, komedia.ru | |
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ